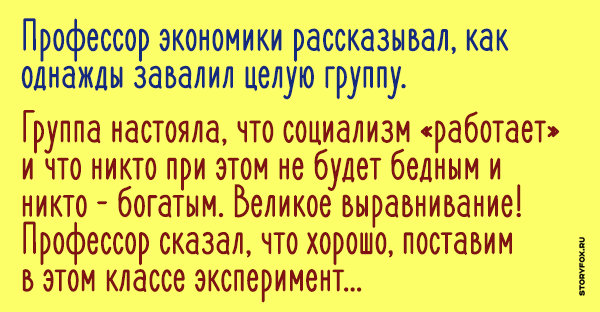«Само общество, не говоря уже о власти, сужает пространство возможного»

Лев Гудков выдвинут на соискание Премии Егора Гайдара 2017 года в номинации «За действия, способствующие формированию гражданского общества».
В одном из интервью, защищая право Левада-Центра на не нейтральные формулировки вопросов в опросах общественного мнения, вы сказали, что каждая компания, изучающая общественное мнение, неизбежно вносит в формулировку свою позицию, поэтому и цифры у всех разные. А есть тогда вообще объективность в изучении общественных настроений? Или нам нужно выстраивать некую цельную картину на пересечении разных субъективных измерений?
Вы знаете, даже у физиков не бывает абсолютно одинаковых измерений. Согласно «принципу дополнительности», в любое измерение включается наблюдатель со своими установками, концептуальными ожиданиями и прочим багажом. Что уж говорить про социальные факты, где позиция исследователя определяет значимость тех или иных явлений или аспектов действительности, подлежащих описанию. У провластных опросных служб – свои задачи. Они – составная часть и инструмент современных политтехнологий и массового управления, действующей системы господства, включающей и весьма эффективное манипулирование общественным мнением. Их цели могут включать как фиксацию отношения населения к тем или иным действиям властей, так и замер социальной напряженности в регионах с тем, чтобы начальство могло как-то отреагировать на настроения людей. Левада-Центр, напротив, – независимая общественная исследовательская организация, и наша цель – быть «зеркалом общества», как говорил Левада, мы — «его градусник».
«Объективность» и значимость получаемых эмпирических социологических данных определяется не только или даже не столько качеством опросных методик и организацией полевых работ, сколько их соответствием поставленным самим исследователем теоретическим задачам, концептуальными рамками интерпретации. Простой пример, чтобы было понятней: в медицине есть такая процедура — специальный анализ крови на онкомаркеры для выявления в сыворотке определенных белков, их соотношений и т.п., позволяющих врачу-специалисту судить о патогенных явлениях и, соответственно, выбирать те или иные средства воздействия на них. Без накопленного теоретического знания об этих белках, их функции и влиянии на опухолевые процессы мы ничего не можем сказать о самих результатах анализа. Наши же «образованцы», получающие результаты социологических замеров, толкуют их в духе народной медицины: у вас «кровь слишком жидкая» или, напротив, слишком густая, «разлитие желчи», «черная меланхолия» и т.п. Поэтому беда нашей интеллектуальной публики не только в отсутствии развитых представлений об обществе и процессах, происходящих в них, но и в утрате доверия к социологической науке, способной к выработке необходимых специальных понятий о возникающих социальных явлениях и процессах. И, безусловно, в этом вина самих социологов, следствие специфической институциональной организации науки.
У нас, в Левада-Центре, до последнего времени задачи были, скорее, академические – исследование процессов трансформации: что происходит с обществом, выходящим из тоталитаризма, как оно меняется, какие факторы подталкивают к выходу из этого, что, вообще говоря, заставляет подобные режимы меняться и что препятствует изменениям. Потому что после развала СССР, который, в общем, многими ожидался, хотя никто не знал, как и когда это произойдет, началась эпоха эйфорического и инфантильного ожидания, что все пойдет само собой, главное – запустить рыночные реформы. Реформы же, начатые сверху, правительством, проводились бюрократическими методами, а значит – были обусловлены и ограничены интересами самой бюрократии, что предопределило их характер и финал. Мы исследовали довольно сложный комплекс вопросов, который можно было, на наш взгляд, решать средствами эмпирических исследований, что вообще редко кто делает, особенно на Западе, потому что эти сферы — опросы общественного мнения и академические, социологические исследования – обычно разведены.
А европейское и мировое исследование ценностей не соединяет также эти сферы? Они частично задают похожие вопросы.
Я сдержанно отношусь к идеологии измерения ценностей, предлагаемой Инглхартом, Хофстеде и прочими, потому что мне сомнительны сами базовые посылки таких исследований, и я не готов делать из них слишком больших выводов. Это межстрановые сравнения, и они фиксируют разницу в ценностной ориентации определенных значимых групп – даже не всего населения. Хофтеде и Инглхарт действуют по-разному, но все равно в основе лежит идея — чем отличается страна X от Y в отношении более развитых стран. То есть по существу это не измерение ценностей, а измерение дистанции от страны, которая выступает эталоном. Это не лишено интереса, во всяком случае, всегда полезно посмотреть, где мы находимся, в каком месте хвоста этой кометы, но это ничего не дает для понимания процессов внутри конкретной страны. А нас, конечно, больше всего интересует именно ситуация в России. За это нас и критикуют некоторые западные исследователи, что мы преувеличиваем уникальность этой страны.
Вы говорите о том, что на ответ человека довольно сильно влияет формулировка. А вообще у него есть какое-то стабильное мнение, которое он готов высказать? Или каждый раз все зависит от того, в каком настроении и под чьим влиянием он оказался?
Вот вы исходите из идеи о том, что человек — это монада, и он в состоянии сам себе создать представление о самых разных аспектах нашей жизни. Вообще говоря, это представление второй половины XVIII века, о разумном эгоисте, рационалисте и в принципе человеке эмансипированном и выпавшем из жестких сословных рамок, условностей, социальных зависимостей и прочих принадлежностей. В социологии работает другая модель – модель социального взаимодействия, это минимум априорных социальных допущений. В этой картине человек сформирован воздействиями разных институтов. Откуда человек может получить представление, скажем, о планах американских империалистов по развалу СССР или о политике нашего руководства? Из средств массовой информации, из школьных представлений, из выступлений политиков и еще из каких-то ситуативных источников, которые создают базу для его дальнейшей ориентации. Это не его собственные представления, это представления, с самого начала заданные либо определенными группами, к которым принадлежит человек, либо институтами, которые он не в состоянии контролировать. Поэтому то, что мы изучаем, — это сила коллективных представлений. Это иллюзия, что массовый человек в состоянии что-то представить, проанализировать и разобраться. Конечно, специалисты — другое дело, у них другие источники, другие способы получения информации, средства осмысления, техника анализа, взвешивания, критической работы с фактами и прочего. А массовое сознание – это всегда коллективные стереотипные представления.
Вы можете перечислить, какие представления сегодня влияют на мнение массового человека? От каких воздействий он чаще всего не свободен?
Влияют, прежде всего, пропаганда и средства массовой информации. Но это только одна сторона. Наш человек, как и массовый человек в других странах, все-таки обладает некоторой свободой выбора или отношения к тем или иным каналам информации, поэтому возникает проблема оценки достоверности получаемых сведений и доверия к ним. В этом смысле всегда есть некоторый люфт. Наши люди весьма скептически относятся к информации о положении дел внутри страны, если это касается повседневных проблем, цен, инфляции, заявлений о борьбе с коррупцией и прочего, — то есть того, что люди могут проверить на собственном опыте. А точнее, в отношении чего они могут использовать опыт и представления, сложившиеся в малых группах, в которые они включены. С другой стороны, что наш массовый человек может сказать о Сирии? Ничего. Его мнение напрямую зависит от той конструкции реальности, которую ему навязывают, задают федеральные каналы ТВ. Большинство населения у нас живет в селах и малых городах, где существуют один-два источника информации о внешнеполитических событиях. Конструкции «фактов», отдаленных от непосредственных проблем человек, могут либо усваиваться некритически, то есть просто внушаться, либо отчуждаться, не приниматься во внимание в зависимости от установок человека. Это тоже очень важный момент, потому что альтернативные интерпретации, скажем, происходящего в Сирии большой частью населения просто отвергаются, не рассматриваются – «я не хочу этого слушать».
Почему же массовый человек так не хочет воспринимать критическую информацию?
А это не укладывается в его картину реальности. Пропаганда ведь — это не просто информация о каких-то событиях. Каждое такое сообщение имеет довольно сложный состав: оно включает разделение на «своих» (собственно людей, добрых, миролюбивых, открытых, нравственных и т.п.) и «чужих» (представляющих угрозу для «нас»), чувство гордости за нашу армию, самую мощную в мире, за страну, победившую фашистов, а потому обладающих моральным правом указывать другим странам, что хорошо, а что плохо для них, при этом включается и «большое длительное время» и все спящие подспудные значения прошлого и т.п. Такого рода «информация» производит очень значимую селекцию представлений о реальности, внушая обывателю сознание своего превосходства над другими, своей особости, исключительности, что формирует иммунитет против ненужных сомнений и влияний.
То есть получается, что он некритически воспринял что-то, по поводу чего у него нет своего представления, а потом это мнение уже не хочет менять?
Конечно, не хочет. По очень разным причинам. С одной стороны, у него существует свой набор иллюзий и ожиданий. С другой стороны, существует подспудный страх, самоцензура, и некоторые вещи он просто табуирует и не воспринимает, блокирует их. Это все входит, условно говоря, в коллективное подсознание, и это тоже определяет и выбор источника желаемой информации, и выбор авторитета, если авторитеты есть, и подчинение мнению большинства. Поэтому массовое сознание принципиально противоречиво, стереотипно, а в нашем случае еще и обладает тем, что Оруэлл называл двоемыслием — одновременным сохранением значимости совершенно противоположных установок. Но если распутывать, то мы видим, что каждый из этих несовместимых с точки зрения специалиста или человека образованного компонентов просто отвечает на разные нормативные ожидания или требования со стороны окружающих. Все это осталось нам в наследие от Советского Союза и опыта коллективного приспособления к репрессивному государству.
А это только наш массовый человек так зависим от коллектива? Это такой специальный эффект советского наследия?
Нет, конечно, это более общая черта, но у западного массового человека совершенно другой институциональный контекст. В принципе, массовый конформизм или авторитарная личность, готовая одновременно к насилию и к подчинению, к принятию готовых мнений и не склонная к рефлексии, описана на американском и на немецком материале философами, социальными психологами из Франкфуртской школы. Это, прежде всего, конечно, исследовательская группа Адорно и проблематика середины 1940-х — начала 1950-х годов. Но наш советский человек не сводится только к этому аспекту авторитарной личности. Тут важна не столько готовность к подчинению и к демонстрации самых грубых идеологических представлений, сколько лукавость, гибкость и оппортунизм, умение уживаться с любой властью. Следствием этого становится очень узкий радиус доверия — доверие только к очень близким людям, и напротив, недоверие к внешним институтам, очень широкие масштабы коррумпированности, потому что это, собственно, механизм взаимосвязи власти и населения. Причем коррупцию не надо рассматривать только как исходящую от власти – коррумпированы обе стороны, и такое положение всех устраивает, потому что это как масло в моторе, без него система не работает.
Но исток такого приспособления нашего человека находится в советских временах или это какая-то более ранняя модель?
Частично, конечно, это идет из времен крепостничества, но в советское время это приобрело совершенно другие масштабы. Все-таки в царской России были определенные зоны взаимодействия с чиновниками, соответственно, проблемы коррупции как социального механизма среди членов одного сословия не возникало. Советский режим резко интенсифицировал процессы ломки старой социальной структуры, в советское время возникло «массовое общество», удерживаемое средствами тотальной регламентации и тотального же насилия. Именно в этой атмосфере сложились эти формы «неформальных» взаимных соглашений, допусков, сочетаний директивной государственной экономики и личного хозяйства, плановых и неплановых ресурсов, постоянного корректирования плана, неучтенных запасов, торговли с заднего хода и много прочего, что и создало эту многообразную систему приспособления и взаимной манипуляции. Но, конечно, все эти вещи в какой-то существенно иной степени проявляются и в других институциональных контекстах.
Очень часто говорят, что устройство нашего общества и его взаимоотношения с властью порождены самими людьми. То есть какие люди, такая и власть. И, может быть, нам не хватает какого-то опыта свободы, чтобы устроить все иначе. Вы согласны с этим?
В принципе, если мы рассматриваем это как взаимодействие, то с этим можно согласиться. Но за таким пониманием стоит ложная идея причинности. Что, дескать, какой народ, такая и власть, ничего не поделаешь. Я бы хотел снять эту предопределенность и метафизичность, потому что в разных сегментах, в разных институциональных контекстах этот самый народ ведет себя очень по-разному. Безусловно, решающую здесь роль играют структуры власти – примитивные, архаические, все время апеллирующие к представлениям предыдущей или позавчерашней эпохи и в этом смысле блокирующие структурно-функциональную дифференциацию общества, подавляющие автономизацию отдельных групп, а значит образование более сложных систем обмена и коммуникации. Другими словами, препятствующие развитию страны, подавляющие его внутренний рост. Потому что современное общество представляет собой агломерат или агрегат автономных, а значит — функциональных образований, без которого не может быть развития. А наша ситуация отличается тем, что власть монополизирует право представлять коллективные ценности, коллективные интересы и, соответственно, использует инструменты насилия, чтобы себя легитимировать. Такая тотальная, патерналистская власть всегда примитивнее, чем общество в целом, и она сохраняет и воспроизводит себя, подавляя разнообразие и упрощая всю систему отношений. После распада советской системы действительно возникло некоторое многообразие, и человек себя повел себя по-другому – не только в науке, но и в бизнесе, и в общественной жизни появилась масса форм, разнообразных медиа, дискуссий и прочего. Ну а потом, по мере укрепления вертикали власти, все это многообразие стягивалось, упрощалось, и общество как таковое, если брать его многообразие, сжималось, скукоживалось как шагреневая кожа. Это, безусловно, патологический процесс, такое реверсивное движение, проявляющееся на самых разных уровнях.
В начале нашего разговора мы говорили о некой фикции отдельного человека, но, вообще говоря, такое представление о человеке есть отражение неразвитости нашей социальной структуры. Мне один испанский дипломат как-то сказал: «Какая у вас странная страна! Я проехал от Калининграда до Владивостока, все говорят на одном языке, в театре одни и те же пьесы, в газетах и на телевидении одни и те же темы. У нас — региональное разнообразие, разные языки, разные группы, это все варится, дискутирует, бурлит, а у вас все однотонное». И это факт. У нас региональные различия важнее, чем социально-групповые, чем различия по доходам или по образованию, по ценностным установкам. А после установления монополии на средства массовой информации прежние фиксированные различия между группами — в зависимости от образования, возраста и прочего — совсем стерлись. Сегодня нет различий между профессором и крестьянином.
Когда вы начинали заниматься социологией, вас очень интересовало двоемыслие советского человека. Когда образовывался Левада-Центра, одной из главных тем было изучение того, как общество выходит из тоталитарного состояния и как переживает советское прошлое. А было ли какое-то понимание перспективы, ради чего это нужно изучать, что и зачем нужно понять в этих процессах?
Вначале, действительно, была идея Юрия Левады, что тот человек, который сформировался в советское время, прошел через мясорубку войн, коллективизации, репрессий, научился жить с этой властью (или выживать), в силу демографических причин уходит. А раз он уходит, то сама система испытывает чрезвычайно сильное напряжение, потому что, как тогда казалось, молодежь обладает другими установками, и она не готова вступать с властью в такие же отношения договора, как в советское время. Иначе говоря, появился массовый протест, новые запросы. И мы тогда, в перестройку, это фиксировали на пересечении трех главных характеристик – молодые, образованные, жители новых городов. Именно они показывали вектор изменения – в сторону европеизации. Но потом мы увидели, как после кризиса народ потянулся к гарантированным доходам, к требованию государственного регулирования цен, к цензуре в СМИ, к контролю… Короче, дайте нам как у всех, пусть это будет немного, но у всех одинаково, и владейте нами. Вот эта ответная реакция на кризис была для нас неожиданной и, можно сказать, разочаровывающей. Откровенно говоря, она повергла в депрессию.
Реакция фрустрации, массовое разочарование в реформах, депрессия потянули за собой подъем и выход на поверхность компенсаторного низового русского национализма, тогда как на момент распада СССР ксенофобия была на очень низком уровне, ниже даже, чем в Европе, особенно в сравнении с такими странами, как Польша, Австрия, Венгрия, Чехия. Потом начали проявляться ощущения, что конкретно разные люди потеряли в результате реформ, несмотря на текущий рост доходов и потребления. Поразительно, что 55-58% до сих пор считают, что они – в смысле их семьи – в результате всех изменений проиграли. Они потеряли чувство принадлежности к великой державе, которая компенсировала убожество и зависимость маленького человека. Соответственно, это символизировалось выходом фигуры Сталина, неспособностью к рационализации прошлого, желанием табуировать все, что связано с насилием и репрессиями. Причем это желание закрыться и вытеснить происходящее даже сильнее в тех группах или социальных средах, которые в советское время пострадали сильнее.
А социолог вообще смотрит на перспективу? Его интересует, какое будущее ожидает общество на основании того, что он замерил и наблюдает сейчас?
Еще бы. Конечно. Но у нынешнего общества нет представления о будущем. В 90-х годах, особенно в первой половине, оно было. Пусть даже абсолютно иллюзорное представление, ожидание наступления «потребительского чуда». Это совершенно понятная вещь. Страна погрузилась в очень тяжелую фазу мазохистского переживания своей коллективной несостоятельности, краха СССР, «мы хуже всех», «мы пример миру, как не надо жить» и т.п. А как ориентир будущего воспринимались разные западные модели – демократии, рыночной экономики. В целом, это было что-то такое смутное социал-демократическое, отдаленно напоминающее шведский социализм, не коммунизм и не либеральный капитализм, а скорее несколько трансформированные или реформированные представления о социализме. Сильная роль государства, но только справедливого государства, заботящегося о народе, распределяющего все блага, поддерживающего порядок, свободы, при этом защищающего человека и прочее. Но определенно были прозападные настроения.
Сейчас они полностью исчезли, потому что подавлена политическая сфера и, соответственно, стерилизованы механизмы общественного целеполагания, постановка новых целей, дискуссии вокруг них. Принятие решений стало исключительно закрытым – власть просто предлагает даже не решения, а некоторые готовые лозунги, потому что никто не спрашивает, нужна ли модернизация армии вместо развития здравоохранения. Люди хотят одно, власть предлагает другое. Люди покорно или пассивно принимают все как есть, а образ будущего просто исчез. Под будущим понимается либо бесконечное повторение настоящего, либо нереализованные иллюзии и надежды позавчерашнего дня, то есть происходит перенос того, чего ждали в советском прошлом, на будущее. В этом смысле мы сами закладываем консервацию нынешнего положения. Само общество, я не говорю уже о власти, сужает пространство возможного.
Вы сказали, что когда выяснилось, что советский человек не ушел, вы испытали разочарование. Сейчас, когда вы смотрите на результаты опросов, что вы ощущаете?
Вы знаете, я из того поколения, которое все время оказывается на завершающей фазе какого-то периода. Я кончал школу, когда закончилась хрущевская оттепель, университет – когда была раздавлена Пражская весна, защитил диссертацию – начался андроповский застой. Поэтому мне было трудно воодушевиться и принять горбачевскую перестройку. Несмотря на все убеждения и доводы Юрия Левады, что начался новый этап, внутренне я очень сопротивлялся, тяжело было еще раз убедиться, что все твои представления пронизаны иллюзиями и необоснованными надеждами. (У меня поэтому сохраняется «презумпция виновности» государства, как это назвал украинский политолог, профессор Михаил Минаков, недоверие к «токсичному» тоталитарному и посттоталитарному государству, а значит – к возможностям трансформации такого режима в правовую и демократическую систему правления. Только «общество граждан», имеющих «мужество пользоваться своим разумом», в состоянии произвести реальные изменения.) Но потом мы всей командой все-таки включились в дело – исследовали процессы социальной трансформации: что происходит с обществом, выходящим из тоталитаризма, какие факторы подталкивают его к выходу, что, вообще говоря, заставляет такие режимы меняться и что, напротив, препятствует изменениям. Сейчас, конечно, на результаты опросов смотришь иногда с ужасом, иногда с депрессией, иногда с отвращением. Но социолог как врач – когда все время сталкиваешься с человеческими проблемами, наступает не то чтобы глухота, но ощущение рутинности.
Как с ним справляетесь, и чем мотивируете себя заниматься социологией дальше?
Так а зачем нужен социолог? Как и врач, он нужен затем, чтобы видеть болезнь и понимать ее причины. Вот мы начали с общественного мнения. Проблема ведь не в достоверности данных, не в различиях фиксации общественных настроений, потому что в строгом смысле все службы показывают одни и те же тренды и колебания. Вне зависимости от формулировок вопроса. Анализ и интерпретации – разные. Но наше сравнительно образованное общество оказывается не готово к пониманию того, что происходит. И не просто не готово к пониманию, а сопротивляется тем выводам, которые мы делаем, просто не хочет этого слышать. «Не говорите нам неприятное». Больше всего мне это напоминает «Обыкновенное чудо», где король вспоминает своего деда по материнской линии, который так боялся неприятностей, что застывал при каждом известии, и даже когда душили его любимую жену, он стоял рядом и говорил: «Потерпи немножко, может быть, все еще обойдется». Люди категорически не хотят осознавать то, что вступает в противоречие с их идентичностью, их самосознанием и их иллюзиями. И это беда. Неспособность к пониманию, неразвитость социального воображения и безрезультативность любых попыток гражданского просвещения — это, мне кажется, самая главная беда нашего интеллектуального сообщества сегодня.
Мягко навязывается мысль, что свободные и правильные мысли и деяния должны отличатся от распостраненных. Причём подкидываются такие идеи очень «своевременно».
Левада центр, холам пусть идеи подкидывает...
Вспомнилось, на тему уникальности и непохожести на большинство.
 источник: img1.joyreactor.cc
источник: img1.joyreactor.cc