[«Mea culpa! Mea maxima culpa!»*] Ошибки Искусственного интеллекта, ошибки с Интеллектом – это только наши ошибки
![[«Mea culpa! Mea maxima culpa!»*] Ошибки Искусственного интеллекта, ошибки с Интеллектом – это только наши ошибки](/story_images/697000/1738406893_37_1738406357_31_1738406169_45_1738406035_14_1738405666_3_1738405610_20_1738405481_31_1738405333_20_hqdefault.jpg)
Китайский интеллект против русского «авось»
Новость о том, что китайский разработчик DeepSeek сделал собственную модель искусственного интеллекта (ИИ) за 5,6 млн долл. без доступа к передовым чипам, буквально потрясла рынок ИИ. В Поднебесной доказали: при правильной постановке задачи сделать свои модели учёные могут без многомиллиардных вложений и имея слабенькие GPU.
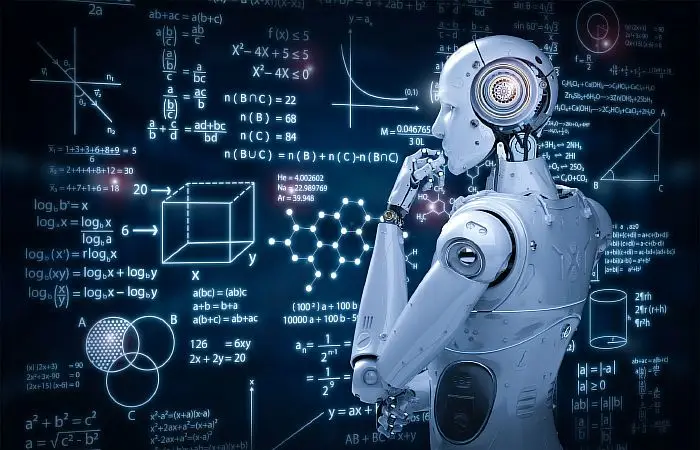
Разъяснение для непосвящённых и не особо продвинутых: GPU — это графический процессор, который помогает обрабатывать графические операции, такие как графика, эффекты и видео. А что с этим у нас на родине? Это особенно интересно сегодня, в свете решений по цифровизации и пресловутому ИИ — искусственному интеллекту.
Ваши авторы, вспомним и признаем свой необоснованный оптимизм, не так давно буквально пели осанну российским айтишникам — Есть ли свет в конце IT-тоннеля?.. Так вот, у нас на родине — при всесторонней поддержке государства и многомиллионных космических грантах — передовики IT- и ИИ-производства из Сбера, Яндекса, AIRI и VK реально могут похвастаться разве что тем, что попробовали новый смузи в лофт-квартале.
Когда-то Михаил Делягин эффектно назвал всю эту публику «офисным планктоном», но теперь надо говорить уже о рабочей аристократии – IT-пролетариате третьего тысячелетия. Так что же произошло, и что нас так зацепило? Просто китайская компания DeepSeek выпустила версию модели искусственного интеллекта DeepSeek-V3.
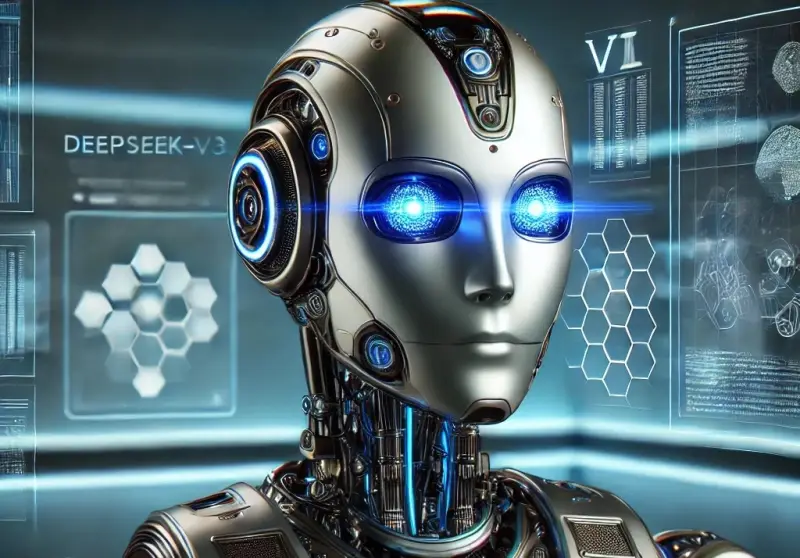
На выходе получилась DeepSeek-V3 – LLM с открытым кодом, который соответствует производительности ведущих американских моделей, но требует гораздо меньше затрат на обучение. В тестах производительности DeepSeek-V3 превосходит Llama 3.1 от Meta (запрещена в России) и другие модели с открытым кодом. DeepSeek-V3 соответствует или даже превосходит Chat GPT-4o.
Чем мы можем ответить?
Считаем — это в 290 раз больше, чем понадобилось на раскрутку DeepSeek. Только в 2025 году на реализацию федерального проекта «Искусственный интеллект» выделено 7,7 млрд рублей — это в 15 раз больше, чем понадобилось DeepSeek. Гранты и субсидии выделяются ИИ-стартапам, крупным разработчикам отечественных нишевых аппаратно-программных комплексов для целей ИИ и исследовательским центрам.
Кроме того, после начала специальной военной операции ИИ-шники оказались едва ли не самой привилегированной кастой – получили льготы на ипотеку, вследствие чего обычному гражданину квартиру купить стало практически нереально, получили отсрочку от военной службы.
Но вместо результатов — пшик. Параллельно с повышением ставок по кредитам, в чём банкиры, конечно же, не виноваты, за счет населения кормят и без того сытых программистов. Сбер собирает у себя разработчиков, а затем расхолаживает их космическими зарплатами. 280–350 тыс. рублей — такой суммой там никого не удивишь.
Но ведь это больше, чем на фронтах СВО. Как признавался собеседник редакции, работающий в Сбере на позиции айтишника, «целый год он ничего не делал и все это время получал больше 200 тыс. рублей ежемесячно, и лишь через год руководство стало задавать ему вопросы».
На выходе у Сбера 70 научных публикаций и SberAI, который не пользуется спросом даже внутри страны: российские компании для решения рабочих задач отдают предпочтение ChatGPT от OpenAI (54%) и Google Cloud AI от Google (18%).
Что же мы получаем? Нейросетку, которая в ответ на детскую загадку «Кто остался на трубе, если А и Б пропали?» отвечает «Никто». Заметили мем из сетей: «Это ли не фиаско, братан?».
Китайское научное чудо
Науку во главу угла в Китае ставят очень часто. Так, по данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), наибольшее число заявок на патенты в области генеративного ИИ подают китайцы, значительно опережая другие страны в пятерке лидеров – США, Южную Корею, Японию и Индию.
Интересно, что в период с 2014 по 2023 год в Китае было зарегистрировано более 38 тысяч изобретений в области генеративного ИИ. Это в шесть раз больше, чем в США, занимающих второе место по количеству патентов. Россия же оказалась по числу патентных заявок лишь на 10 месте.
И никто не виноват?
Пример тому — КБ «Око» и его ударные беспилотники Privet-82, о которых на наших страницах сообщалось ещё полтора года назад (Разработчик дронов-камикадзе готовит первую партию). Отзывов на них в сетях уже с избытком. Они могут поражать цели на расстоянии более 30 миль, что намного больше, чем у FPV, и с более тяжёлой боеголовкой, чем у FPV.

Хотя Россия пыталась адаптироваться к культуре стартапов, крупные подрядчики всё равно имеют полный контроль над процессом поставок. Новым компаниям с опасными идеями о производстве доступных и эффективных систем обычно не дают прохода. Такие новички, как «Око», обычно попадают в очень ограниченную параллельную вселенную, известную как «народный ВПК».
Работать там приходится в условиях стесненного бюджета. Есть небольшие компании, которые решают не военные, а задачи экономики мирного времени — они тоже есть, и они тоже необходимы. Но и они, как правило, находятся далеко от «кормушки» и о миллиардах могут только мечтать. Зато решают не выдуманные, а реальные задачи.
Что делать?
Интересно, кому достанутся эти сверхценные GPU — IT-гигантам с нулевым выхлопом или же гаражным разработчикам? Вопрос риторический. Может, наступила пора наказать тех, кто раскидывается бюджетными миллиардами и согласовывает гранты в пользу сытых айтишников? Не перестать ли обогащать «вайтишников» Яндекса со Сбером?
Или вообще последовать примеру китайских коллег и передать решение задач ученым РАН? В противном же случае нам так и придётся смотреть на гонку ИИ со стороны, не становясь её полноценным участником.
- Пётр Ненароков, Николай Михайлов
* Mea culpa (с лат. — «моя вина»), mea maxima culpa («моя величайшая вина»)[1] — формула покаяния и исповеди в религиозном обряде католиков с XI века.
Выражение происходит от первой фразы покаянной молитвы Confiteor, которая читается в Римско-католической церкви в начале мессы:
Исповедую … что я много согрешил мыслью, словом и делом: моя вина, моя вина, моя величайшая вина.
Оригинальный текст (лат.)показать
Верующие в ходе этой молитвы, как правило, ударяют себя три раза в грудь.
По словам Адриана Фортескью, включение в Confiteor фразы mea culpa можно проследить только в XVI веке[2]. Однако латинская фраза mea culpa использовалась в религиозном контексте и раньше. В поэме Джеффри Чосера «Троил и Крессида» (XIV век) автор использует выражение, как устоявшуюся формулу покаяния и признания своей вины перед Богом.
Приблизительно в 1220 году обряд публичного покаяния в Сиене для совершивших убийство, требовал, чтобы каявшийся трижды бросился на землю, повторяя: «Mea culpa; peccavi; Domine miserere mei» («По моей вине. Я согрешил. Господи, помилуй меня»).
В обиходном контексте выражение mea culpa иногда используется в культуре некоторых западноевропейских стран в ироническом смысле.
12 марта 2000 года в юбилейный год, устраиваемый католической церковью каждые 25 лет, папа римский Иоанн Павел II впервые в истории произнёс mea culpa от имени католической церкви. Он просил прощения и признал вину членов церкви за восемь грехов: преследование евреев, раскол церкви и религиозные войны, крестовые походы и оправдывающие войну теологические догматы, презрение к меньшинствам и бедным, оправдание рабства.[3]
